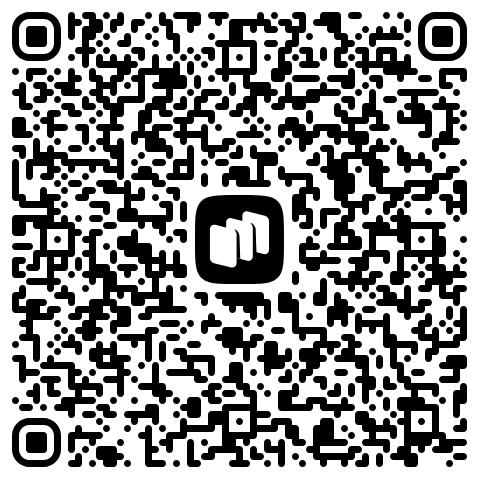9 июля 2025
Какое безграничное удовольствие посреди самых лютых морозов чувствовать себя так, словно сидишь под большим и тихим деревом, пронизанным готовым к закату неагрессивным солнцем? И сколько миллионов лет надо прокрутить в своей душе для того, чтобы тебя было не сломить, как это дерево?... Внутренний покой - это не безразличие к жизни, но безразличие к тем жукам-короедам, которые ждут того момента, когда ты дашь им сигнал страха или злости, после которого они начнут тебя есть... А ты не даёшь этого сигнала... Ты преодолел свой страх, и давно понял, что злость - просто реакция, а не способ жить, поливая досягаемое кислотой... Это полное безразличие к любым играм, в которые тебя пытаются вовлечь... Потому что твои игры закончились в песочнице... Это полное безразличие к очередям за теми, кто любит, чтобы за ними стояли в очереди... Раз любят, то сами пусть и стоят... Ты дорос до взаимности... Это полное безразличие к необходимости хоть что-то доказывать кому бы то ни было, или убеждать, что ты не такой, как о тебе подумали... Кто подумал, тот думал о себе, но не имел храбрости признать этого... отдал тебе... А тебя ещё мама научила не брать у чужих... Это полное безразличие к соревнованиям, борьбе, марафонам... Просто потому, что тебе не надо быть победителем, вылезшим из кожи... Ты уже одержал победу один раз, когда понял, что тебе не интересно быть лучше кого-то, тебе достаточно быть собой... И если ты что-то хорошо делаешь, то грамота, подтверждающая это, тебе ни к чему... грамоты нужны тем, кому не столько важно хорошо делать, сколько поддерживать иллюзию того, что никто так больше не умеет... Внутренний покой приходит не с календарной зрелостью, а как признак осознанности... Ты продолжаешь развиваться, но навсегда избавляешься от суеты, тревоги, ожидания оценки... Ты сидишь под деревом своей не шаблонной жизни, и понимаешь, что вот чего точно у тебя больше не будет, так это шаблонов... Покоя ведь не имеют те, кто беспокоится, что не выйдет точь в точь повторить то, что вроде бы как обязательно для всех... Не обязательно... Всем вам я желаю покоя... Отыщите своё дерево, своё солнце, свою землю под ногами.... И будьте у себя самих... всегда будьте... Остальные подтянутся...
Показать полностью…

Теневые импульсы, деструктивные импульсы, ревность, ненависть и т. п. обычно проникают в психику человека через подчиненную функцию, потому что это наше слабое место, здесь мы не можем управлять собой, оказываемся не в состоянии осознавать значение своих поступков. Следовательно, именно из этого угла нас атакуют разные деструктивные или негативные устремления. Вы можете сказать, что дьявол взаимодействует с четвертой функцией и через нее проникает в человека. Если выражаться на языке средневековья, можно сказать, что дьявол хочет уничтожить людей и будет всегда пытаться добраться до вас с помощью вашей подчиненной функции (слабого места). Четвертая дверь в вашу комнату — это дверь, в которую входят и ангелы, и дьяволы!
Показать полностью…

7 июля 2025
Анимус — это внутренняя фигура, которая может быть как самым жестким критиком женщины, так и источником её глубочайшей мудрости и творческой силы. Он может разрушать изнутри, если не осознан, и становиться союзником, если интегрирован.


К. Г. Юнг достаточно быстро понял, что магический и таинственный мир, в который травмированный человек попадает через созданный диссоциацией разлом в его психе, не только является артефактом процесса расщепления, но и существовал всегда, и этот архетипический и мифопоэтический мир уже готов, если можно так сказать, принять индивида. Попадая в этот мир экстраординарной реальности, растерзанная душа становится участницей драматической истории, принадлежащей архетипическому репертуару древней психе.
Юнг был очарован этими историями и их универсальными чертами. Он был убежден, что они составляют образную матрицу, которая служит ресурсом для души. Фрейд с подозрением относился к этой формулировке и предпочитал сводить мифопоэтические символы к замаскированным травмам, полученным в ходе отношений с другими людьми, всегда ограничивая значения этих символов болью и борьбой в семейной драме. Даже Рональд Фейрберн, который, опережая свое время, подверг пересмотру теорию влечений Фрейда, утверждал, что персонифицированные образы сновидений представляют собой лишь интернализованные внешние отношения. В этих теориях представлен только один-единственный мир, и ничего не говорится о втором, а также о том, что в норме наша жизнь балансирует между этими двумя мирами.