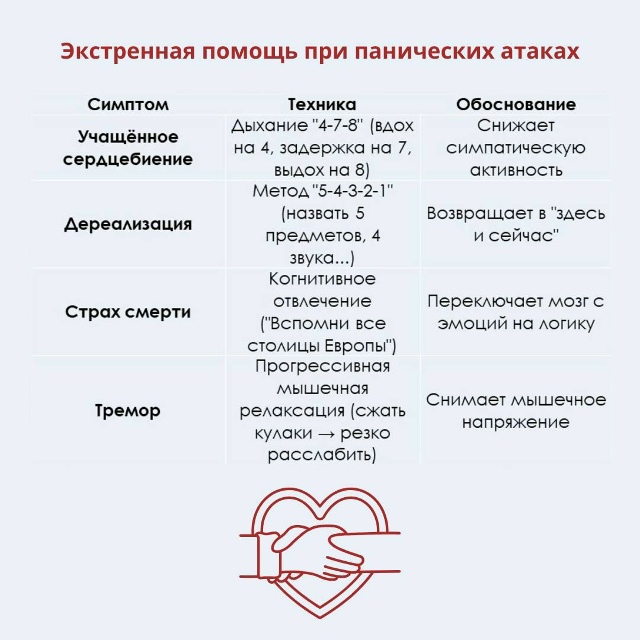26 августа 2025
Синхронистические события почти всегда сопутствуют важнейшим этапам индивидуации. Но слишком часто они остаются незамеченными, поскольку человек не научился замечать такие совпадения и придавать им смысл, соотнося их с символикой своих сновидений. И на самом деле эти события — не просто совпадения, а своего рода акты творения во времени.
Показать полностью…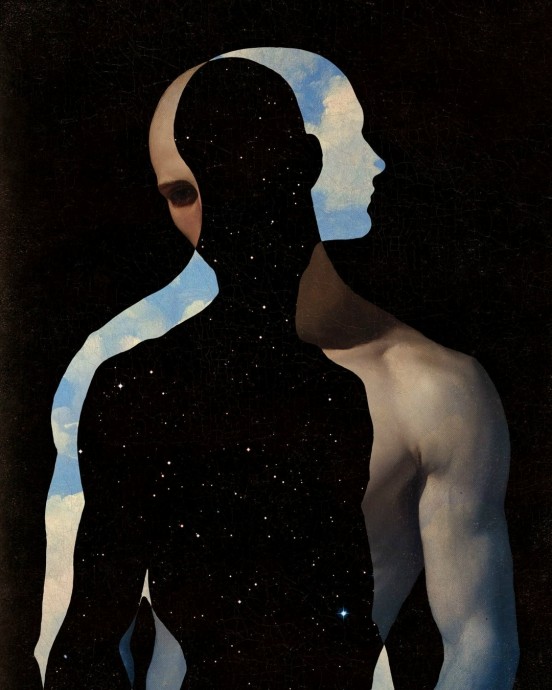

Психика с ее структурами — достаточно реальные образования. Они способны, как уже было сказано, трансформировать материальные объекты в психические образы, с помощью которых мы воспринимаем не волны, а звуки, не электромагнитные колебания определенной частоты, а те или иные цвета. Сущее таково, каким мы его видим и понимаем.
Показать полностью…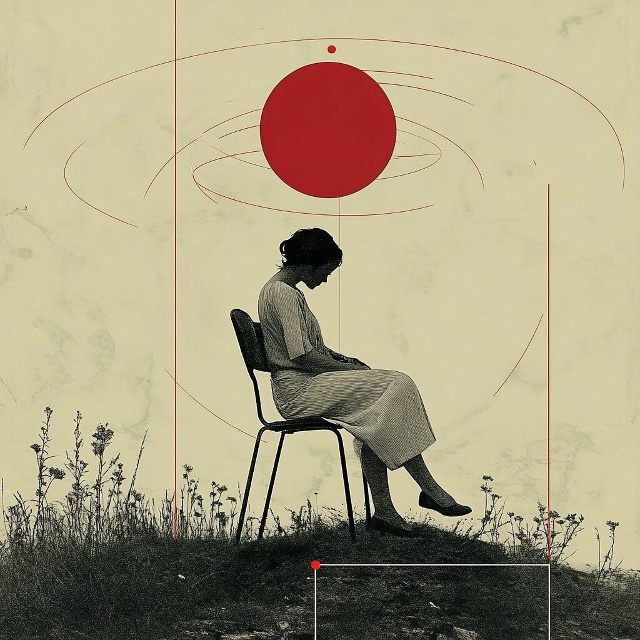

Кто-то сказал мне однажды — жить нужно ради мелочей. Жить ради рассвета в пять утра и заката в пять вечера, жить ради дорожных путешествий, ради езды на велосипеде с музыкой в ушах и ветром в волосах, жить ради танцев под дождем, жить ради смеха до боли в животе, жить ради любимых песен и хороших книг, ради улыбок без повода, ради длинных разговоров, ради печенья с чаем, ради отдыха после долгого тяжелого дня, ради блеска в глазах... Жить ради ночных приключений и ради звезд, провожающих тебя домой. Жить ради людей, которые помнят, что ты пьешь чай без сахара и ненавидишь лук. Жить ради первого поцелуя и длинных прогулок, ради объятий и новых знакомств. Ради неожиданных подарков и долгожданного «да». Жить ради тех мелочей, что заставляют почувствовать себя живым...
Показать полностью…