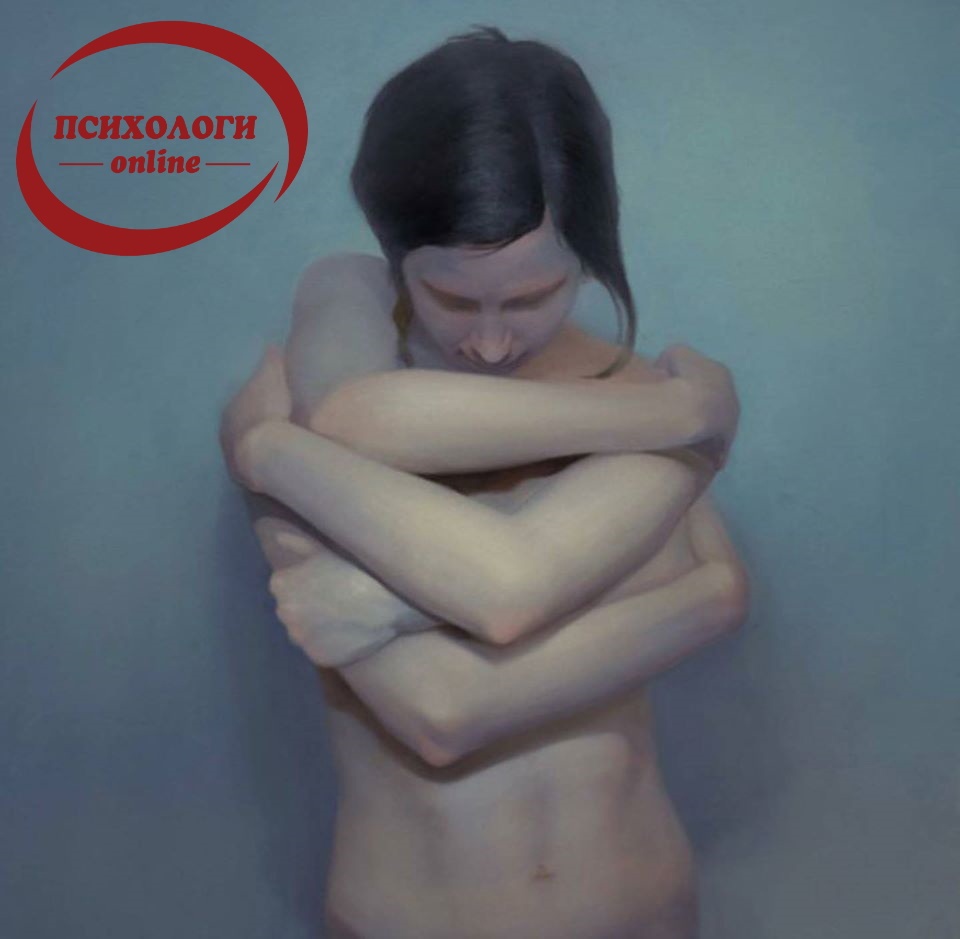27 июля 2024
Мне кажется важным развести три таких постоянно путающихся друг с другом понятия. Причем подчеркну - они не являются жестко разделенными друг с другом, они могут плавно (или не очень плавно) перетекать друг в друга, и именно поэтому нередко мы можем видеть эту путаницу. Начну с базового: агрессии.Агрессия в психологическом смысле: перевод внутреннего импульса вовне (т.е. превращение энергии эмоций в действие, направленное на удовлетворение моих потребностей или целей). Т.е. любое действие, когда я что-то пытаюсь для себя получить во внешнем мире, является агрессивным. Другое дело, что это может быть действие в стиле "подвиньтесь, мне тоже есть место под солнцем в этом мире", а может быть в стиле "эй ты, умри/свали отсюда, я займу твое место, заберу твои ресурсы".Насилие: (по определению ВОЗ): "преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб". То есть любое насилие - агрессивное действие, но не всякая агрессия - насилие. Когда я удовлетворяю свои потребности, заставляя другого человека давать то, что мне нужно (или причиняя ему боль, или под угрозой боли, отвержения или каких-либо других лишений) - это насилие. А мне может быть нужна еда, признание, секс, деньги, послушание, образ "хорошего родителя" в чужих глазах и так далее.Защита - противодействие чьим-либо попыткам при помощи насилия добиться от нас того, чего хочет тот, кто к насилию прибегает. То есть защита - это отказ уступить насилию (или угрозе насилия). Защищающийся может причинять боль напавшему - до прекращения нападения и устранения угрозы."Пограничные зоны" (зоны, в которых одно легко может перетечь в другое): защита того, что до этого было когда-то давно или недавно захвачено насилием у других. Другая пограничная зона - детско-родительские отношения. Здесь ребенок постоянно сталкивается со специфической формой взаимоотношений с родителями (и не только с ними) - с ограничением. Ребенок чего-то хочет и на что-то претендует - а ему говорят "нет, это не твое" или "нет, это не сейчас". Ограничение это не насилие - это фактор реальности, с которым ребенок учится обходиться. Но ограничение может превратиться в насилие, когда мы начинаем говорит ребенку "нет" в ответ на его витальные требования (еда, сон, эмоциональная поддержка и др.). То есть мы фактически вторгаемся в зону жизненных интересов ребенка, которую сами же и призваны защищать. Еще одна специфическая форма - это требования среды. Так, если требованием среды является обязательное получение среднего образования, а ребенок этого не хочет - мы его заставляем, однако для выживания в обществе выполнения этого требования необходимо, это делается в его интересах. Ограничения и требования - зона постоянного баланса между агрессией ребенка (его желаниями) и откликом окружающей среды в виде родителей и других взрослых (в стиле "я хочу!" - "держи сейчас; не сейчас; никогда; сейчас ты должен делать другое"). Баланс сложный, поэтому это "пограничная зона", где сложно постоянно удержаться в красивом балансе между агрессиями детей и родителей. Много насилия творится под лозунгом "это для твоего же блага".
Показать полностью…

КАК МЫ ВСЕ ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНО И НЕЗАМЕТНО ТЕРЯЕМ СЕБЯ
Жил-был мальчик, мечтал стать космонавтом (режиссером, каскадером, доктором, капитаном..), закончил школу, поступил в университет, нашел приличную работу… и больше с ним ничего интересного не происходило.
Печальная сказка, правда?
Ах, да. Однажды его накрыло. «Я не понимаю, почему всё так сложилось. Я ж вроде всё делал правильно. Как я мог пропустить свою жизнь? Как получилось, что я пришел не туда?»
Если вы не хотите такого сценария, давайте пока не поздно я расскажу вам, как он складывается. Потому что складывается он хоть и на ваших глазах, но для вас почти незаметно, в чем я совершенно убедилась за годы работы карьерным консультантом.
Пару лет назад я написала статью «Уроки больших перемен», где рассказала свою историю. Как мы с мужем, офисные менеджеры и родители двоих детей, решили устроить себе большую перезагрузку. Было страшно и иногда трудно, но в итоге нам удалось состояться в своих новых, осознанно выбранных карьерах — ими стали ресторанный бизнес и консалтинг. Географически это выглядело как Москва-Париж-Монако.
Рассказанная история наделала много шуму в рунете, и даже была переведена на английский. Многие писали комментарии и задавали вопросы. Но никто не спросил, во сколько лет началась жизнь, построенная по правилу «Делать только то, во что веришь и жить только там, где нравится». А началась она только в 38. Почему не раньше на несколько лет? Потому что я была слишком занята.
Как, например, Денис. Это ему принадлежат слова о том, что «как я мог пропустить свою жизнь, я ж все делал правильно».
Денис всё время занят, у него всегда было сумасшедшее расписание, отвлечься было некогда даже в отпуске. Он пашет на своей ответственной работе в двух часах пробок от дома и с каждым годом становится всё загруженнее. Время от времени его повышают, задач еще больше прибавляется. А когда приходило сомнение, так ли он хочет жить и куда он вообще идет, он обычно говорил: «Сейчас не время. Однажды я переделаю все дела и обо всём этом подумаю».
Признаюсь, я тоже так думала. Я почему-то жила с убеждением, что колесо однажды остановится и высадит меня у указателя «Ну наконец-то интересная жизнь». Только вот все дела сначала надо переделать из списка.
Но список задач у меня, у Дениса (и любого из вас) никогда не заканчивается. Зато он создаёт иллюзию занятой, целеустремленной и результативной жизни. Планы пишутся, галочки ставятся, цели достигаются. Вы просто активно карабкаетесь по лестнице, но при этом даже не задаетесь вопросом, к той ли стене она приставлена.
В средние века у греха занятости было две ипостаси. Первая — неспособность что-либо делать, это можно назвать ленью. Вторая — безумная беготня. Ощущение того, что «я иду, не зная куда, но клянусь Богом, я спешу изо всех сил, чтобы туда прийти» (Бриджит Шульте, «Мне некогда!»)
В чем же подвох? Давайте разбираться.
Подвох первый.
Загруженность создает иллюзию успеха.
Успех в нашей голове как-то незаметно стал связан с забитым расписанием, с двумя смартфонами на столе, с многозадачностью, с отпусками где вы всегда на связи, с отсутствием выходных и даже ночными бдениями в офисе. Именно так это и выглядит, когда вы несетесь на полной скорости, при этом не приближаясь ни к какой цели. Но подумать вам об этом некогда.
Поработать «на полную катушку» я и сама люблю, и вообще хороший профессионал всегда чем-то занят. Я за занятость, только чтоб человек понимал, в чем сделка и куда он так бежит.
Давайте начнем включаться прямо сейчас.
Что делать:
Задайте себе вопрос — туда ли я иду? К какой такой стене приставлена моя лестница? Самый простой способ: посмотрите на тех, кто на 1-2-3 ступеньки выше. Вдохновляют? Это похоже на то, чего вы хотите? Если да, то лестница приставлена к правильной стене. Ура. Если нет, похоже, нужно пересмотреть сценарий, и лучше вы это поймете сейчас.
Подвох второй.
Загруженность создает иллюзию смысла.
Потеря себя не сопровождается взрывом, грохотом или параличом конечностей. В конце каждого бессмысленно проведенного года у вас не отваливается нога или рука — это бы вы сразу заметили и что-то с этим сделали.
Но вы пропускаете вашу жизнь буднично и незаметно. День за днем, задача за задачей из бесконечного списка дел. От одного плотного забитого ежедневника до другого. И нет повода бить тревогу, ведь всё как у людей.
И при этом никто не спрашивает — ты счастлив? Тебе интересно? Чего ты хочешь? А чего спрашивать, вроде всё хорошо.
И в самой большой группе риска — ответственные и правильные люди. Ведь они стараются всё сделать как надо, соответствуют ожиданиям, достигают результатов.
Включение, а потом осознание «я пришел не туда» может быть болезненным, и часто происходит по причине не очень хороших событий. Давайте их не ждать, потому что это может стать очень дорогим уроком.
Что делать:
Периодически включайтесь сами, для этого чаще «поднимайте перископ». Любым способом выныривайте из своих плотно забитых to do листов и «обнуляйтесь» — то есть смотрите на свою жизнь как бы со стороны, с дистанции. Я люблю одну практику и расскажу о ней. Обычно я выбираю утро своего дня рождения и просыпаюсь как будто я с кем-то поменялась телами и теперь оказалась в этой жизни и в этих обстоятельствах. Главное — посмотреть на всё новыми глазами. Где вы? Что делаете? Кто эти люди рядом с вами? Вы бы выбрали всё это, если бы выбирали?
Подвох третий.
Загруженность сужает ваш кругозор и создает «профессиональный туннель», из которого сложно выбраться.
«Даже если я захочу что-то поменять, я даже не знаю, что мне нравится. Нет у меня никаких интересов кроме работы», — говорит Денис. Верно, со временем мы прочно замыкаемся в одном профессиональном сценарии. Нам некогда смотреть по сторонам. Нам некогда копать глубже. Нам даже некогда точить пилу, мы всё время пилим.
Потом, когда решимся что-то поменять, мы можем просто не знать, что нам нравится и кто мы такие. Мы будем прочно ассоциировать себя со своей должностью и компанией, потому что лишь это и есть вся наша жизнь. Замкнутый круг.
Что делать:
Просто расширяем горизонт и размыкаем круг. Для этого прямо сейчас запланируйте «вылазки из туннеля». Начните с того, что просто хотя бы час в неделю смотрите что нового в вашей теме или любой интересной для вас теме. А лучше всего выбирайтесь туда, где еще не были, но где происходит что-то интересное. Тогда к моменту появления вопроса «А что дальше?» у вас не будет вакуума, а будут мысли и идеи.
Главное: я не призываю резко что-то менять, бросать или ломать. Я призываю только включиться. Это просто, и этого достаточно, чтоб вы не пропустили незаметно свою жизнь, при этом много работая и устало вычеркивая пункты из списка дел.


Между раздражителем и реакцией всегда есть промежуток, и в этом промежутке человек обладает свободой выбора.
Понятие "эмоциональная гибкость" обращается именно к таким промежуткам между чувствами, которые вызывает у человека ситуация, и поведением, которое она диктует. Важно уловить этот момент, подключить рациональное мышление и принять верное решение.

Я бы хотела поговорить об очень важном навыке - проживании чувств без их отыгрывания, отреагирования во внешний мир по направлению к другим людям. Этот навык, размещение в себе сложных или неприятных чувств вместе (важно!) с их осознаванием и удерживанием внешней реакции, направленной на других людей, является для нашей культуры редким и незнакомым навыком. Проявляется отсутствие этого навыка вопросом "да, я это чувствую, и что мне теперь с этим делать?"Психолог может ответить нам: "Просто чувствуйте это. проживайте это". И это нас разочарует. Мы только-только научились "что-то с этим делать"! Предъявлять себя и свои потребности. Защищаться. Говорить, наконец, другим людям о своих чувствах! осмеливаемся им предложить менять свое поведение! И тут предлагается "ничего не делать"?Увы, у нас с вами действительно нет схемы на все случаи жизни - что иногда делать с тем, что чувствуешь. Но развитие в себе богатого диапазона навыков обращения с собой и является развитием эмоционального интеллекта.Давайте начнем по порядку. Мы действительно порой чувствуем что-то наряду с растерянностью и бессилием. например: печаль. Злость или ярость. Ревность и страх. Боль. Раздражение. Отчаяние. Бессилие. В некоторых случаях мы можем только чувствовать и ничего не можем (и не должны!) сделать с источником этих чувств.Человек умер или ушел от нас так, что мы не можем его вернуть. Никакое действие, направленное в его сторону, невозможно. То, что мы будем чувствовать по этому поводу, похоже на гору, которую не обойти-не объехать. Нам придется взобраться на эту гору: прожить свою боль до конца. Смелость идти в свое горе, невытеснение этого, смелость сказать себе "мне больно так, что нельзя дышать", парадоксальным образом облегчает задачу: рано или поздно мы обнаружим, что у этой боли есть обозримый объем. Есть начало и конец. Мне часто говорили клиенты: если я разрешу себе горевать по этому поводу или плакать, я боюсь, что я начну выть. И не смогу остановиться. Я боюсь, что не справлюсь с этим. Это, конечно, не так. Иногда только шаг в эту боль является единственным шагом к тому, чтобы она когда-нибудь кончилась. Проживать ее, просто чувствовать ее уже является необходимым и порой достаточным действием, чтобы рано или поздно с ней справиться.Возьмем пример легче. Кто-то нас раздражает в сети. Осознать: этот человек не сделал мне ничего плохого. Но он меня раздражает. Принять: я пока ничего не могу с этим сделать, мне осталось только чувствовать это раздражение. Осознать еще: мое раздражение имеет, наверное, какие-то причины. Я сейчас не могу/не имею сил с этим возиться и выяснять. Чувствовать: да, он меня бесит. Мне важно это назвать своими словами. Регулировать: я не имею права указывать ему менять свое поведение только потому, что он меня раздражает. Регулировать: что я могу сделать с собой? читать, пытаясь понять, почему раздражает. Отписаться, пока мое состояние не изменится; забанить, ибо бесит. Признаком низкого эмоционального интеллекта было бы отыгрывать это чувство вовне: идти к нему на страничку с указанием, что и как ему писать.Ревность, зависть, страх: я осознаю, что я сейчас ревную/завидую/боюсь почувствовать себя ничтожеством или ненужным. Осознавание: могу ли я попросить изменить поведение человека так, чтобы я этого не чувствовал? Ведь специально он ничего для этого не делает. Если не могу: умом я понимаю, что у меня нет оснований это чувствовать, но я это чувствую, ок. Зрелое регулирование реакции на собственные чувства: могу ли я сделать что-то, что принесет мне облегчение, не трогая при этом другого человека, вызвавшего во мне такую бурю эмоций? (при отсутствии регулирования собственных реакций мы обесцениваем чужие достижения, закатываем скандал, говорим или пишем токсичное). Признание собственного права чувствовать некрасивое: да, я сейчас завидую/ревную/бешусь от чужого успеха. Размещение: я могу ничего с этим не делать, не портить отношения, прожить это, увеличить дистанцию с тем, что меня ранит, а когда выдохну и отойду, разберусь с тем, что меня так задевает.Чем это отличается от вытерпеть? Тонкий вопрос. Наверное, тем, что терпим мы с надеждой, что что-то изменится. Подавляем, стараемся не чувствовать. А тут мы чувствуем на полную катушку - но ничего с этим не делаем, не размещаем чувства в другом, проживаем объем сами. Ре-гу-ли-ру-ем. Называем эти чувства словами, себе или психологу, когда знаем, что сейчас - не изменится, легче не станет, и мы что-то можем сделать с собой, а не с другим человеком. Мы не можем вернуть того, кто умер или ушел. Мы не можем велеть другому взрослому вести себя по-другому. Мы не можем переделать того, кто нас разочаровал, а значит, нам остается только прожить разочарование, не делая замечаний по этому поводу другому. Мы чаще всего должны проживать, например, раздражение, - молча, так как оно способно выливаться некрасиво и портить наши отношения, но в этот момент можно сказать себе - сейчас мои границы проницаемы, меня все бесит, я должен позаботиться о собственном состоянии, если я не могу изменить поведение другого человека. Он меня раздражает, да, пойду потопаю ногами где-то в уголке или просто высплюсь, а потом поговорю с ним (или не поговорю, не имею права).Вы видите, что нет готовых схем. На каждое мое предложение в этом тексте у многих найдется возражение, недоумение, сопротивление. Но эмоциональный интеллект на то и интеллект, что гибок и самообучаем.Важно знать, что наше состояние влияет на наше настроение, а не наоборот. Недосып, голод, который мы плохо осознаем, уровень стресса, усталость, - все влияет на наше настроение. Невозможно настроением вытянуть состояние, но наоборот можно. Это тема, впрочем, другого большого разговора.И напоследок я скажу, так как вопросы тут неизбежно возникают: насилие в отношениях, эмоциональный или физический абьюз, - что ли, Юля, теперь любого плана эмоции размещать в себе? Молчать? Нет, это как раз насильник не умеет размещать, не регулирует, не осознает, у него низок эмоциональный интеллект. Здесь признаком вашего зрелости будет вывести себя из-под огня, - обычно менять его поведение невозможно. Признаться себе - мне страшно, больно, унизительно, я не могу/я могу дать отпор. Это уже разговор другого плана и порядка.В этом тексте же я бы хотела показать вам, как еще можно обращаться со своими эмоциями: признавать свое право их чувствовать - любой силы и диапазона, и не осуждать себя за это; называть их точно; проживать их, удерживая в себе (я это чувствую, и мне важно, хоть и страшно именно чувствовать), или выпускать, регулируя их объем. Любой психолог, любой терапевтический процесс вас этому научит.Хочется подраться, но мы просто жестко скажем словами; хочется сделать замечание, но мы различаем, что это не наше дело, и поэтому пройдем мимо; мы влюблены безответно, но не преследуем объект влюбленности. Печаль, например, вообще не предполагает никаких действий вовне - но вместо этой эмоции у нас часто страх и злость, мы не умеем просто сожалеть, просто грустить, просто печалиться, ничего больше с этим не делая.Между эмоцией и ее отыгрыванием во внешнем мире, между эмоцией и внешней реакцией должен быть еще один шаг- осознавание, и второй - регулирование. Не путать с подавлением.
Показать полностью…