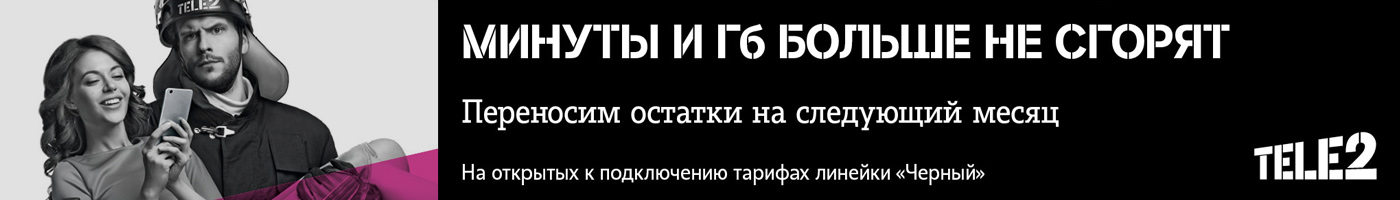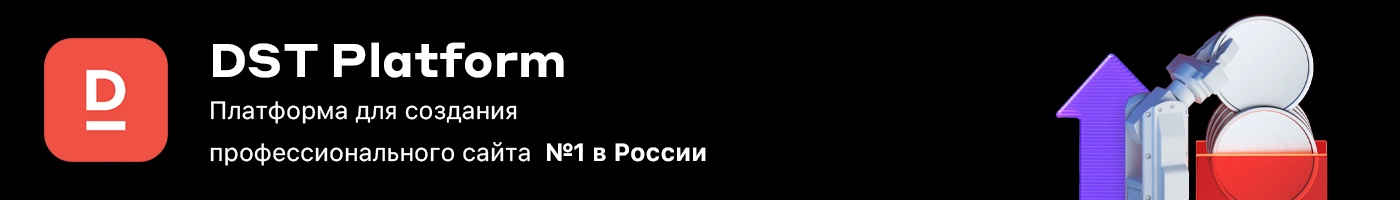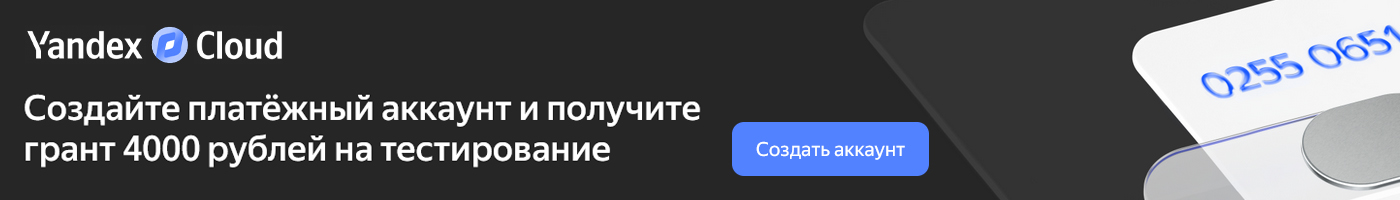Вы творили в детстве лютую дичь?
 Аналитическая психология
Аналитическая психология

Вы творили в детстве лютую дичь? Я вот, помню, лет в пять, абсолютно осознавая, что утюг — горячий, зачем-то дотронулась до него костяшками пальцев и получила ожог. Такой секундный рассинхрон головы, которая уже знает и обычно контролирует, и тела, которое отсоединилось и забыло…
Вот вчера так Данька разбил планшет. Сын стоял на краю кровати с планшетом на вытянутых руках и, прекрасно понимая, что у него в руках хрупкая вещь, разжал пальцы, чтобы планшет упал со всей дури экраном в пол.
Мы, взрослые, были в той же комнате. Даня поднял планшет и я спросила, разбился ли он. (Тут важен для сюжета спойлер: разбился). Сын показал мне его издалека и я ничего не увидела. (При этом мы понимаем, что ребенок уже попал в сильнейшую фрустрацию: он разбил дорогую вещь, технику, разбил по глупости и даже не сослаться на то, что упал или он у него выпал. Он сам такого исхода и такого себя не ожидал.).
Через несколько секунд Данька стоял около меня и молча, как бы вскользь, показывал экран. «Разбил» — заключила я. Сын, красный и переполненный фрустрацией, в прямом смысле замер… Словно его тело налилось свинцом и стало в два раза плотнее и тяжелее.
И вот тут очень интересный момент. Если присоединиться к ребенку — хотелось его поддержать и как можно быстрее вывести из этого состояния, ну что-то типа: «не переживай, завтра сходим, отдадим планшет в ремонт». Если присоединиться к собственной фрустрации (от обнаружения, что теперь планшета для мультиков у нас нет и впереди траты, как минимум, на ремонт), то, конечно, хотелось бы поругать как следует, таким образом выпустив свое напряжение… А еще перед глазами проносились картины, как меня заставляли взрослые в таких случаях извиняться, так же как телесные воспоминания о том, каково мне было внутри… Мы не начали ругаться, но и категорически спасать тоже не стали, разбитую ценную вещь не хотелось превращать в «фигню».
Говорить с Даней «по душам» было бесполезно. Он в прямом смысле слова «завис» (думаю, каждый может вспомнить такие моменты, когда ты настолько растерян, что голова не работает и невозможно, как ухватить смысл того, что говорят тебе, так и самому нечто ответить). В общем, в нескольких словах обсудив, что пока мультиков нет и после сада можно пойти искать ремонтную мастерскую, папа Даню помыл и мы с ним легли читать книжку.
Я подумала, что стоит попробовать вернуться к этому происшествию. Первое, что я сказала: произошла неприятная ситуация, он разбил папин планшет и хорошо бы извиниться. Сын, который в общем-то еще и не расслабился, снова напрягся. Я тут же пояснила, что не буду его заставлять, потому что нельзя людей заставлять извиняться, это так не работает, человек может только сам выбрать. Но все же я хочу поговорить.
Спросила, как ему кажется, почему ему сложно извиниться, ведь в нашей семье мы все друг перед другом извиняемся в таких ситуациях. Если бы я разбила его игрушку, он же знает, что я бы извинилась… Даня долго молчал и потом почти со слезами на глазах сказал «мне очень страшно». Я согласилась. «Извиняться и правда очень страшно». Мы-то взрослые, мы уже много раз шли на этот страх, поэтому нам попроще, но все равно, конечно, очень страшно. Многие даже взрослые боятся признавать, что что-то сделали не так, поэтому тот, кто признает что нечто пошло не так, тот уже очень смелый человек. И еще важно, что когда ты извиняешься, ты не имеешь в виду «я плохой», ты говоришь «я люблю тебя, поэтому мне очень жаль». И конечно я объяснила, что извиняемся мы за «неудачный» поступок, оставаясь «хорошими» людьми.
Естественно это не было вот такой тирадой, а небольшими вставками внутри молчания. Еще я спрашивала, могу ли я чем-то помочь, поддержать его, чтобы было не так страшно, примеру подержать на руках (чтобы как бы усилить собой его уязвимый размер), но сын отвечал «нет». И мы опять молчали.
«В общем», — сказала я, — «я просто тебе предлагаю в следующий раз помнить, что извиняться — это очень смелый поступок сильных духом людей и, может быть, в другой ситуации у тебя получится. А теперь давай читать». «А можно просто сказать «прости»?»- оживился Даня. «Можно сказать так, как тебе по силам». Он встал, пошел в другую комнату, где сидел Марк и сказал: «папа, прости». А после, естественно абсолютно счастливый и расслабленный, прибежал и запрыгнул в постель параллельно набивая рот клубникой)))
Я тот еще Макаренко и не считаю выше описанное какой-то педагогической историей. Предположу, что детские психологи даже скажут, что я что-то сделала не так. Что возраст еще мал для извинений, ведь эмпатии как таковой еще не народилось, или не стоило оставлять ребенка в такой длительной фрустрации… наверняка можно и иначе. Речь не об этом, а о наблюдении процессов шестилетки….
Это наглядная бытовая история о том, что брать авторство СТРАШНО. На телесном уровне страшно. СТРАШНО КАК БАЗА, А НЕ КАК ТРАВМА. Страшно ребенку, которого никогда не наказывают, который так и сказал: «я не знаю чего боюсь, но страшно». Не убегать из невыносимости фрустрации, не замирать в ней и уходить внутрь, не нападать из нее, то-есть не идти за абсолютно естественными телесными импульсами, но рождать осознаное движение своей психической энергии в контакт — которое само по себе может быт необходимо только человеческому существу — очень тяжело и страшно. ВСЕМ И ВСЕГДА.
И менее страшно становится не тогда, когда ты понял, что это все «травмы», «страх отвержения», «мамин голос в голове» и прочее, а только тогда, когда ты снова и снова делаешь это чуждое твоей, в основе животной, природе усилие: сквозь белый шум в голове и стремящееся распасться на молекулы тело находишь силы говорить о своих реальных мотивах, реальных чувствах, реальном авторстве, реальном положении дел.
Как писал Холлис: «Личность не даруется нам, а формируется в каждодневной борьбе с демонами сомнений и осуждений, финансовыми депрессиями и чувством ненужности».
Пэ. Сэ. А планшет, мне кажется, навряд ли уже можно починить))) Но вот тут уже исключительно в педагогических целях мы потратим один вечер после сада и прогуляемся до ремонта)))